 Михаил ЕФИМОВ, кандидат богословия
Михаил ЕФИМОВ, кандидат богословия
«Карамзинская нелепа. Итоги» →
Мы начинаем публикацию изследования Михаила Вячеславовича Ефимова, сотрудника Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, об освещении в трудах Н.М. Карамзина времени и деяний Царя Иоанна Грозного. Русский город Симбирск породил не только Ульянова-Ленина, но и этого литератора, подлинная роль которого в нашей трагической истории ещё недостаточно оценена и понятна обществу. Данная работа М.В. Ефимова даёт обширную информацию по этому вопросу и предлагает читателю взглянуть на деятельность и, главное, сами мотивы «вдохновений» Карамзина с иной, чем привычно утвердилось в нашем сознании, более глубокой точки зрения.
В отечественной мысли на протяжении последних веков не умолкают споры о личности русского Царя Иоанна IV Васильевича, прозванного в народе Грозным. Со всех сторон мы слышим разные голоса, то осуждающие и проклинающие государя, то защищающие и прославляющие его. Кто же он: садист-кровопийца или благоверный правитель, грозный лишь для врагов Православия и России? Вопрос непраздный, ибо в истории русской общественной мысли он до сих пор занимает важное место. В наши дни в связи с известными событиями эта проблема встает в полный рост, паки и паки возвращая нас к своему обсуждению. Поскольку основным генератором указанных прений является «История Государства Российского» Николая Михайловича Карамзина, то было бы полезно принять во внимание ряд обстоятельств, касающихся автора данного исторического полотна и того, как оно создавалось.
 Начнем с того, где возник замысел написания «Истории». В начале великой по своим злодеяниям французской революции 1789-92 гг. Карамзин оказывается в Западной Европе. Посещая тамошние университеты, библиотеки и музеи, знакомясь с сокровищами живописи, архитектуры и ваяния, внимая последнему слову искусства и науки, он тесно сближается с владыками дум эпохи Просвещения и гуманизма, т.е. того времени, когда европейские народы начали изменять христианским ценностям, когда вместо Бога во главу всего был поставлен человек с его страстями и пороками, когда образованные сословия ринулись в масонские ложи и оккультные общества. Здесь, у ног этих горе-«просветителей», последователи которых вначале возвели на эшафот французского короля Людовика, а затем растерзали российского Императора Николая II с его семьей, и началось становление Карамзина как вольнодумца и революционера, т.е. ненавистника самодержавия. Забегая вперед, отметим, что эта богоборческая стезя в декабре 1825 г. привела Николая Михайловича к Сенатской площади Санкт-Петербурга, где он принял сторону осатанелых бунтовщиков, дерзнувших поднять руку на священную власть помазанников Божиих и пожелавших на крови царствующего дома воздвигнуть свою антихристову демократию. Чего не достигли декабристы, то сделали однодумцы Карамзина после 1916 года.
Начнем с того, где возник замысел написания «Истории». В начале великой по своим злодеяниям французской революции 1789-92 гг. Карамзин оказывается в Западной Европе. Посещая тамошние университеты, библиотеки и музеи, знакомясь с сокровищами живописи, архитектуры и ваяния, внимая последнему слову искусства и науки, он тесно сближается с владыками дум эпохи Просвещения и гуманизма, т.е. того времени, когда европейские народы начали изменять христианским ценностям, когда вместо Бога во главу всего был поставлен человек с его страстями и пороками, когда образованные сословия ринулись в масонские ложи и оккультные общества. Здесь, у ног этих горе-«просветителей», последователи которых вначале возвели на эшафот французского короля Людовика, а затем растерзали российского Императора Николая II с его семьей, и началось становление Карамзина как вольнодумца и революционера, т.е. ненавистника самодержавия. Забегая вперед, отметим, что эта богоборческая стезя в декабре 1825 г. привела Николая Михайловича к Сенатской площади Санкт-Петербурга, где он принял сторону осатанелых бунтовщиков, дерзнувших поднять руку на священную власть помазанников Божиих и пожелавших на крови царствующего дома воздвигнуть свою антихристову демократию. Чего не достигли декабристы, то сделали однодумцы Карамзина после 1916 года.
 На пиру европейского разума его посетила идея создания отечественной истории и ее осмысления. При посещении парижской Академии надписей и словесности, центра историко-филологических исследований, он сделал первый набросок замысла исторического труда: «Больно, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, т.е. писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Нужен только вкус, ум, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить и читатель удивится, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев… Происшествия, действительно любопытные, описать живо, разительно». Далее Карамзин отмечает, что время Царя Иоанна нужно представить в живописи. Подчеркнем, что набросок этот связан с посещением Академии словесности и что в нем Карамзин основное свое внимание уделяет литературному достоинству предполагаемого труда. Так оно и случилось. «История Государства Российского» – это замечательный памятник русской словесности, великолепный учебник красноречия. Однако может ли строгая историческая наука сочетаться с художественной образностью под одной обложкой? Что бывает, когда некая совокупность исторических данных облекается в художественную форму? Рождается историческая беллетристика. Как тут отделить научные данные от игры авторского воображения? Можно ли на таком материале решать сложнейшую проблему биографии Иоанна IV?
На пиру европейского разума его посетила идея создания отечественной истории и ее осмысления. При посещении парижской Академии надписей и словесности, центра историко-филологических исследований, он сделал первый набросок замысла исторического труда: «Больно, что у нас до сего времени нет хорошей российской истории, т.е. писанной с философским умом, с критикою, с благородным красноречием. Нужен только вкус, ум, талант. Можно выбрать, одушевить, раскрасить и читатель удивится, как из Нестора, Никона и прочих могло выйти нечто привлекательное, сильное, достойное внимания не только русских, но и чужестранцев… Происшествия, действительно любопытные, описать живо, разительно». Далее Карамзин отмечает, что время Царя Иоанна нужно представить в живописи. Подчеркнем, что набросок этот связан с посещением Академии словесности и что в нем Карамзин основное свое внимание уделяет литературному достоинству предполагаемого труда. Так оно и случилось. «История Государства Российского» – это замечательный памятник русской словесности, великолепный учебник красноречия. Однако может ли строгая историческая наука сочетаться с художественной образностью под одной обложкой? Что бывает, когда некая совокупность исторических данных облекается в художественную форму? Рождается историческая беллетристика. Как тут отделить научные данные от игры авторского воображения? Можно ли на таком материале решать сложнейшую проблему биографии Иоанна IV?
Сразу же по возвращении в Россию Карамзин приступает к издательской деятельности. В 1792-93 гг. он выпускает «Московский журнал» (8 книг), а в 1802-03 гг. – «Вестник Европы» (12 книг). На страницах этих изданий Николай Михайлович публикует свои повести на исторические темы, ставшие первыми его опытами в создании картин минувших времен языком изящной словесности. Здесь мы еще не видим мотивов якобинского вольнодумства. Еще бы! Карамзину для написания и издания огромного труда необходимо было заручиться высочайшим благословением, т.е. дозволением Императора. Ради этого хитрому масону должно было играть роль верноподданного гражданина. Однако на исходе 18-го века Император Павел I получил извещение об участии Карамзина в якобинстве. Над злоумышленником нависла грозная туча государственных репрессий, что объясняет пометку в его записной книжке: «Если провидение пощадит меня, если не случится того, что ужаснее смерти, т.е. ареста, займусь историей». Провидение пощадило литератора, но тот не пощадил своих читателей, отравляя их умы ядом якобинских инсинуаций.
6 июня 1803 г. Карамзин пишет своему брату Василию Михайловичу: «Хотелось бы мне приняться за труд важнейший, за русскую историю, чтобы оставить по себе отечеству недурный монумент». Вот главная причина возникновения «Истории»! Честолюбивый масон заботится о прославлении своего имени. Не удивительно: все слова и поступки этой публики диктуются стремлением к собственной корысти и славе.
Через несколько месяцев, а именно 31 октября, Николай Михайлович получает указ, подписанный Императором Александром I. В нем говорилось, что, одобряя его желание в столь похвальном предприятии, как сочинение полной истории Отечества нашего, Государь жалует ему в качестве историографа ежегодный пенсион в 2000 рублей и производит отставного поручика в надворного советника, вновь зачисляя его на службу. Последнее обстоятельство было совершенно необходимо для получения доступа к государственным архивам. Указанный день стал главной вехой в биографии литератора. Указ Императора, доверившего писателю столь важное для русского самосознания дело и создавшего для него все нужные условия, благоприятствующие творческому процессу, предопределил дальнейшую судьбу Карамзина.
По завершении 8-го тома «Истории» он 16 марта 1816 года получил аудиенцию у Александра Благословенного, который уделил ему более часу своего безценного времени, дал разрешение на издание труда, 60000 рублей на издержки и наградил литератора орденом святой Анны первой степени. Кроме того Государь повелел набирать «Историю» в лучшей по тем временам казенной типографии Генерального штаба. Если бы Карамзин не был обласкан монаршей милостью и облачен таким глубоким доверием, кто знал бы его теперь? Что такое Карамзин без «Истории Государства Российского», начертанной благодаря неоценимой помощи Александра Благословенного? И как же отплатил якобинец своему коронованному благодетелю?
В своих посланиях к подобным себе революционерам Карамзин рисует Императора только черной краской, отзываясь о нем со злобой и возмущением. Двуличный масон, превозносящий августейшего венценосца в своем посвятительном слове к «Истории», в то же время обвинял его в одобрении глупого плана ведения войны с Наполеоном, в сдаче и гибели Москвы, в разорении нескольких губерний, в страдании народа на оккупированных землях.
Проницательный Пушкин, увидевший эту неискренность, отметил в своих записках 1826 года, что нельзя забывать, что Карамзин писал и издавал свою «Историю» в государстве самодержавном, что именно этим и объясняются несколько фраз о самодержавии, брошенных им в посвятительном письме и опровергнутых позже самим автором всем последующим изложением событий.
Что же касается обвинений в адрес Императора, то здесь все – ложь, по мысли Александра Васильевича Суворова, столь свойственная масонам. Во-первых, план войны, одобренный Государем, привел Россию к победе, а во-вторых, первым предложил сдать Москву Михаил Богданович Барклай-де-Толли на совете в Филях. С ним согласился Михаил Илларионович Кутузов, от которого и зависело решение об оставлении столицы. Все историки Отечественной войны 1812 года сходятся в мысли, что решение это было необходимым и правильным. Вместо того чтобы обвинять своих братьев-мартинистов в резне русских людей, Карамзин клевещет на помазанника Божия. Во время пятидневного визита Карамзина в Тверь к Великой княгине Екатерине Павловне в декабре 1810 года она пожелала, чтобы все ею услышанное в беседах с писателем было положено на бумагу. «Брат мой, – говорила княгиня, – должен услышать мысли, достойные Государя».
О, святая простота! Заказанная ею «Записка о древней и новой России» была готова к марту 1811 года. В ней дана всесторонняя оценка того якобы тяжелого положения, в котором оказалась страна, руководимая Александром, говорится о его просчетах (действительных ли?) во внешней и внутренней политике и вообще наносится удар по образу Императора как просвещенного монарха. Однако наглость автора тем не ограничилась. Будучи в Твери в середине указанного месяца, он позволил себе читать «Записку» самому Императору, т.е. плюнул ему в лицо. И что же? Вместо того, чтобы гнать мерзавца взашей, Государь всего лишь уехал, не попрощавшись. О, милосердие Александрово!
После окончательного разгрома наполеоновской армии императрица-мать Мария Феодоровна почтила Николая Михайловича приемом у себя в Павловске, предложив ему восславить Царя-победителя. Что же Карамзин? Отклоняя просьбу августейшей особы (какая честь изменнику!), он пишет ей, что не может-де оставить свой главный труд, «чтобы гоняться за героями новыми, которых лавры так лучезарны и подвиги так громки». Один из исследователей Карамзина Смирнов замечает: «Но ведь новый герой – это венценосный сын корреспондентки. Какой непочтительный тон, однако, взял Николай Михайлович по отношению к нему: гоняться за зайцами». Да, наглость удивительная!
В таком же духе будущий декабрист пишет и Екатерине Павловне, сестре самодержца, заявляя, что ужасы царствования Грозного буквально потрясли его. Сравнивая Иоанна IV с современностью, он сообщает: «Меня занимает Иоанн Грозный, этот изумительный феномен между величайшими и самыми дурными монархами». Намек более чем оскорбительный! Ответа от Великой княгини не последовало. Похоже, что в сие время царская семья начала понимать, с кем она имеет дело. После того, как Карамзин прочел в Павловске несколько глав «Истории», императрица-мать посоветовала ему удалиться из Санкт-Петербурга, сказав, что московская дорога в хорошем состоянии.
К тому времени концепция 9-го тома «Истории», посвященного изобличению «Ивашкиных злодейств» (карамзинский термин), окончательно уже сложилась, и общая оценка Грозного, изложенная Карамзиным в ряде писем, в том числе и к Екатерине Павловне, была хорошо известна в обществе и при дворе. Этим отчасти и объясняется охлаждение Марии Феодоровны к Николаю Михайловичу. Смирнов замечает: «К этому еще надобно добавить столь устойчивую в определенных кругах славу Карамзина как неисправимого якобинца. В царской семье ее носителем был цесаревич Константин». Указанный младший брат Александра I категорически возражал против публичного обсуждения и осуждения деяний Иоанна IV, что наносит удар по престижу царской власти. Он так отзывался о 9-м томе Карамзина: «Книга его наполнена якобинскими поучениями, прикрытыми витиеватыми фразами».
Цесаревич не был одинок в своих воззрениях на труд Карамзина: сам автор сетует брату Василию Михайловичу, что публика реагирует на «Историю» неоднозначно.
Кто ж восторгался Карамзиным и его творением? Декабристы, разрушители Российской Империи. Их умиляла стройная концепция «Истории»: вечевые, республиканские традиции нашего народа уходят в глубь веков, во времена Киевской Руси, низовой люд сохранял их и отдал не без борьбы, шло противостояние двух властей – великокняжеской и народной, восторжествовала первая. Вот некоторые мысли Карамзина на этот счет: «Москва медленно и недружно двигалась к государственной целостности. Внутренний государственный порядок изменился. Все, что имело вид свободы и древних гражданских прав, стеснялось, исчезало. Князья, смиренно пресмыкаясь в орде, возвращались оттуда грозными властелинами, ибо повелевали именем царя верховного. Во Владимире и везде, кроме Новгорода и Пскова умолк вечевой колокол, глас высшего народного законодательства, столь часто мятежный, но любезный потомству славянороссов. Сие отличие и право городов древних уже не было достоянием городов новых: ни Москвы, ни Твери. Только однажды упоминается в летописях о вече московском, как событии чрезвычайном. Города лишались права избирать тысяцких, которые важностью и блеском своего народного сана возрождали зависть не только в княжеских чиновниках, но и в князьях». И в ином месте: «В Москве борьба двух начал завершилась полным триумфом князей».
Из этих рассуждений масонская братва делала вывод, что надобно вернуть народу древние свободы, похищенные царями. Смирнов пишет: «Обосновывая свои республиканские идеалы, именно так рассуждали декабристы. Самодержавие ничего общего не имеет с основами народной жизни, это – нарост, злокачественная опухоль, татаро-монгольское правление. Именно так рассуждал Герцен, выдвигая идеи русского социализма. В конечном счете к этим традициям народовластия, прослеженным Карамзиным, восходили идеи шестидесятников, боровшихся за то, чтобы увенчать празднование тысячелетия России (1862 г.) созывом земского собора, провозглашением народовластия, конституционного закрепления политической свободы. В карамзинском труде, как в прогоревшем костре, под монархическим пеплом таился огонь свобод республиканских. Иго ордынцев не прошло бесследно в нашей истории прежде всего в плане утраты вечевого народовластия».
В этой связи попечитель московского учебного округа Голенищев-Кутузов в августе 1810 года обратился к министру просвещения Разумовскому с предупреждением об опасности, исходящей от новоявленного историографа. Он писал, что сочинения Карамзина наполнены ядом якобинства и вольнодумства, источают безначалие и безбожие, что сам он метит в первые консулы и что давно пора его запретить и уж никак не награждать. Вскоре после этого Голенищев-Кутузов сообщал Его Величеству, что Карамзин – французский шпион. Припомним тут, где родилась идея «Истории».
Из всего вышеизложенного видно, что пресловутый сочинитель явился одним из главных идеологов и вдохновителей декабристского восстания и, стало быть, все злодеяния мятежников, в том числе и убийство Милорадовича, славного героя Отечественной войны, тяжким камнем лежат на совести того, кого при дворе называли негодяем. Настоящая оценка личности Карамзина подтверждается стычкой, которая произошла между ним и Государем в 1819 году. «Сир, — изрек грубиян, — Вы слишком самонадеянны». Позже он записал: «Мы расстались навеки». Вот это точно сказано. Государь ныне с праведниками, а где душа его ненавистника?
Теперь обратим внимание на внутреннюю противоречивость «Истории», которая значительно подрывает ее авторитет. Карамзин указывает, что величием своим русские князья обязаны ханам Золотой орды. Вот как реагирует на это Смирнов: «Справедливость требует отметить чрезмерную категоричность этого вывода. Не только ведь происками в орде, подарками ханам, женитьбами на их дочерях держалась и возрастала княжеская власть. Тут тот случай, неединственный у Карамзина, когда его суждения опрокидывались всем ходом последующего изложения, воссозданными им же картинами народной жизни и борьбы. В данном случае мы имеем в виду прежде всего главы, посвященные Куликовской битве, изложению деятельности Дмитрия Донского, его духовного наставника, нравственной его опоры – Сергия Радонежского».
Профессор Погодин в своем двухтомном своде материалов к биографии Карамзина ставит под сомнение научную значимость его труда. Он сетует, что историограф отступил от традиции своих предшественников, писал «Историю» не по Шлецеру, стремясь удовлетворить первые потребности, а ученость после. Напомню читателю, что Август Людвиг фон Шлецер (1735-1809) – выдающийся историк и филолог, адъютант Петербургской Академии наук, профессор Геттингенского университета, автор замечательного труда «Нестор», исследования которого высоко ценились современниками. Наш гордец отзывался о нем с презрением и насмешкой. Кроме того, Погодин утверждал, что в карамзинском своде данных о славянских племенах нет ничего нового для ученого-специалиста. Иные исследователи считают, что вся научная часть труда не принадлежит перу Николая Михайловича, что ноты, т.е. подвальная часть «Истории», в которой размещены научные данные, не вошедшие в основной текст, написаны директором Государственного архива Малиновским и его сотрудниками.
Декабристы! Никак мы не можем уйти от них в разговоре о Карамзине. Что ж? Он весьма дорожил их дружбой и панически боялся прослыть в их среде монархистом. Ради этого он зачастую указывал в своих письмах, что является республиканцем, либералистом не на словах только, но и на деле. Некоторые мартинисты, как, например, декабристы Никита Муравьев и Михаил Орлов, не узрев общей концепции «Истории» и ссылаясь на предисловие к ней, обвиняли автора в приверженности к самодержавию. Это мучительно коробило Карамзина, заклятого врага христианских государей. Он признается в своей корреспонденции, что работа над вступлением ему далась всего труднее, что он буквально хитрил и мудрил и недоумевал, почему его критики не идут далее первого тома.
Прелестно! Восхитительно! Вот он – ключ к разгадке феномена «Истории Государства Российского»! «Хитрил и мудрил» – это ее сущность, квинтэссенция, если хотите. Именно с этим ключом должно подходить к раскрытию тайны девятого тома, кульминации «Истории», о чем будет говорено подробно в дальнейшем.
Приступая к размышлению над девятым томом «Истории Государства Российского», я должен собраться с духом и скрепить сердце, ибо разбирать гнусные инсинуации, размещенные на его страницах, – то же, что выполнять работу ассенизатора. Читать «обличения Ивашкиных злодейств» означает для меня погружаться в зловонную яму, наполненную нечистотами, ибо указанная книга есть клоака ненависти и злобы, или ров, кишащий отвратительными ядовитыми гадами клеветнических измышлений.
Ради правильного понимания карамзинской писанины обратимся к ее идеологическим истокам. Вот как об этом отзывается Смирнов: «Карамзин отчетливо осознавал, что все им написанное, все его понимание российского исторического процесса, раскрывающее трагическое борение двух начал – вечевого народовластия с военно-монархической бюрократией, а ее апофеоз – в кровавом самолютстве Грозного выступают как обличение не только аракчеевщины, но и основ неограниченного самовластия вообще… Карамзин буквально пропел отходную царю-реформатору, хотя говорил о далеком Грозном«.
«Пропел отходную» – верно подмечено. В то время малый народ, к которому принадлежал и Карамзин, преследовал цель расстрелять Великую ектению, т.е. погребсти под пеплом революционного пожарища не только династию Романовых, но и саму идею самодержавия. «Действительно, — указывает Смирнов, — его «История» наносила по аракчеевщине, престижу самовластия сильнейшие удары и подобно эпиграммам Пушкина исторические оценки мучителей западали в память, становились предметом обсуждения в различных кругах общества«.
Второй уже раз слышим здесь слово «аракчеевщина». Случайно ли? Отнюдь. Термин сей имеет самое прямое отношение к проблематике девятого тома. Чтобы убедиться в этом, припомним основные сведения об Алексее Андреевиче Аракчееве (1769-1834 гг.). Он родился и вырос в бедной семье разорившегося дворянского рода, однако в 1808 году стал военным министром Российской империи, а с 1825 года был вторым лицом нашего государства, т.е. правою рукою благоверного Императора Николая I. Представь себе, любезный читатель, какими феноменальными интеллектуальными способностями, какою благородною душою должен был обладать Алексей Андреевич, дабы достичь столь высокого положения в обществе, выйдя из самых глубин безвестности и лишений. В этом смысле судьба Аракчеева весьма схожа с жизнью Михайла Васильевича Ломоносова, одного из светлейших умов нашего Отечества. В самом деле государственный муж, чье имя вписано золотыми буквами в историю земли русской, был выдающимся математиком своего времени. Благодаря этому, ему удалось реорганизовать русскую артиллерию таким образом, что она стала лучшей в мире (!) и имела решающее значение в разгроме наполеоновских полчищ. Самозабвенная преданность престолу помазанников Божиих позволила Аракчееву снискать неограниченное доверие со стороны Государя, тонкого ценителя человеческих душ. Внутренняя политика железной дисциплины, проводившаяся Алексеем Андреевичем, давала Императору возможность утверждать, что в его время революции в России не будет. Разумеется, в либеральных кругах подобная деятельность вызывала бешенную ненависть, и они заклеймили верного царского слугу и патриота Святой Руси и его дела позорным словом «аракчеевщина».
Республиканцы не хотели простить Алексею Андреевичу его слов и поступков в пользу монархического строя. В ход пошло излюбленное оружие церкви сатаны, испытанное на протяжении веков, очернение. Аракчееву пришлось испить до дна горькую чашу клеветы и дискредитации. С тех пор, как в мир вошла тайна беззакония, участь сию разделили бесчисленные сонмы светлых и безвинных людей. Среди них особое место занимают царственные страстотерпцы и их преданный друг Григорий Распутин.
Карамзин как участник мировой закулисы поставил перед собой цель, которую Смирнов описывает так: «Вразумить живущих и царствующих уроками истории, опричниной грохнуть по аракчеевщине. Надобно было собрать для этого и надлежащие мысли, не мысли даже (они давно были выстраданы), а слова, формулировки, такие оценки прошлых событий и лиц, которые помогали бы современникам бороться с самовластьем нынешним, тутошним«. Отсюда видно, что если главная идея первых восьми томов «Истории» – противостояние вечевого народовластия и княжеского правления, то замысел отдельно взятого девятого тома в том, чтобы «опричниной грохнуть по аракчеевщине». Помилуйте! Налицо политический заказ и абсолютная ангажированность автора. О какой исторической науке, о каких беспристрастных и объективных изысканиях тут можно говорить? Как могут некоторые из нас, православных, ссылаться на эту якобинскую белиберду в вопросах, столь актуальных для современной Церкви? Совершенно очевидно, что Карамзин в работе над девятым томом заботился не об исторической правоте, но о том, чтобы грохнуть, уколоть, растоптать идеологического противника. Говоря о могучем союзе Карамзина и революционеров, Смирнов указывает на подоплеку девятого тома: «С Тацитом сравнивали историографа и будущие декабристы, прозорливо угадав смысл его поучений«. Здесь следует напомнить читателю, что Тацит – это историк Древнего Рима накануне его падения (476 г.). Называя своего соратника этим именем, бунтовщики намекали на скорое ниспровержение царизма.
Многие здравомыслящие люди дореволюционной России осудили и отвергли тайный умысел Карамзина, отчего на памятнике ему, установленном в 1911 году, обретались лишь первые восемь томов «Истории». Девятый том, возводящий напраслину на русского царя, оказался непризнанным. Эх, нам бы сейчас такую осмотрительность в оценке трудов Карамзина! По моему глубокому убеждению, принимать его псевдоисторические писульки за чистую монету значит уподобляться декабристам, которые возвышали девятый том как знамя своей революционной деятельности. Эта книга стала для многих из них излюбленным чтивом, постоянным спутником. К примеру, Кондратий Рылеев с восторгом восклицал: «Ну Грозный! Ну Карамзин! Не знаю, кому больше удивляться — тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита«. Он же свидетельствовал, что его друзья Бестужев, Муравьев и другие молодые якобинцы, ранее упрекавшие Карамзина в приверженности к монархизму в основном за посвятительное письмо и введение к труду, по выходе девятого тома стали самыми горячими почитателями его, величали не иначе, как Тацитом и повсюду разносили весть о новом замечательном творении историографа. Мартинист Вильгельм Кюхельбекер, злодей, приговоренный к смертной казни, превозносил девятый том как лучший в творчестве Карамзина. Иной декабрист Владимир Штейнгель, осужденный на 20 лет каторги, восхищено провозглашал эту книгу феноменом, небывалым в России мол, один из великих царей открыто ознаменован тираном, каких мало представляет история.
Чем же объяснить тот факт, что декабристы взахлеб зачитывались самым мерзким томом карамзинской нелепы? Как и прочие революционеры, они были заражены демоническим желанием крови и мучительства. Свою кровожадность эти нравственные выродки доказали вооруженным выступлением на Сенатской площади, которое является прекрасной иллюстрацией того, что в основе всякого бунта лежит садизм, т.е. стремление причинить страдание другому живому существу. Известно, что современные мучители снимают свои жертвы фото- и видеоаппаратурой, чтобы затем снова и снова упиваться их муками и слезами. В первой половине XIX столетия не было этих технических средств, посему тогдашним обскурантам от франкмасонства приходилось довольствоваться такими кровавыми фантазиями, как легенды о графе Дракуле и сказания о мнимых злодействах Иоанна IV. Здесь нет ни капли преувеличения, о чем свидетельствует садистический геноцид русского народа, осуществляемый с 1917 года теми клевретами мрачного бафомета, которые распяли светоносного Бога любви. Карамзин, имея гипертрофированное воображение, с удовольствием обслуживал кровожадные наклонности своих братьев по оружию. Хочешь ли, читатель, доказательств? Изволь.
Кому неизвестно душещипательное сказание о том, как Грозный слушал посланника князя Курбского Ваську Шибанова, вонзив в его ногу свой жезл и опершись на него? Какова же историческая ценность сей умилительной картины? Смирнов так отзывается на этот счет: «слуга, стоя неподвижно, безмолвствовал, а царь, опершись на жезл, слушал чтение письма Курбского. Потрясающая воображение сцена, но не совсем точная по историческим свидетельствам«.
Николай Иванович Костомаров (1817-85 гг.), один из знаменитейших наших историков, член-корреспондент Петербургской Академии Наук идет дальше. Он указывает, что в летописи, означенной Карамзиным как Александро-Невская, о Ваське Шибанове сказано, что он способствовал бегству Курбского и сам был схвачен, а не послан в Москву с письмом, как обыкновенно полагают. Слушайте, дорогие мои, налицо чудовищный подлог: в летописи, на которую ссылается обманщик, нет ни слова о том, что пособник изменника Родины был направлен им в столицу и о его ноге, якобы пронзенной царским жезлом!!! Как же после этого можно относиться к россказням якобинца о том, что царь будто бы насиловал и собственноручно пытал своих подданных? Теперь у нас есть веское основание полагать, что все это – плоды его бурного воображения. Судите сами, может ли психически здоровый человек изливать на бумагу такие ужасные бредни, да еще в адрес живой души, реального исторического лица. Думаю, что автор приписывал государю собственные мечтания и вожделения. В таком случае девятый том – это не отображение реалий XVI-го века, а фантасмагории сочинителя. Тот факт, что всякий здравомыслящий человек не может читать об «Ивашкиных злодействах» без содрогания и омерзения, ясно показывает тяжелую душевную поврежденность и других декабристов, сладострастно упивавшихся этими кошмарами.
Кстати говоря, сколько ненависти и презрения к русскому Царю в Карамзинском словосочетании «Ивашкины злодейства»! Оно уподобляет Государя разбойнику с большой дороги, пьяному от крови и вседозволенности. Подобные чувства Карамзин испытывал ко всем российским самодержцам, в том числе и к благоверному Императору Павлу I, который запретил использование слова «гражданин», заменив его термином «обыватель». Это было следствием издания в апостасийной Европе знаменитой масонской Декларации прав человека и гражданина, благодаря которой слово «гражданин» наполнилось новым значением: оттоле в вольнолюбивом его звучании слышался прямой призыв к революции. Однако злоумышленник, манкируя волей правителя, придал запретному термину широкое употребление в своей «Истории».
Но вернемся к его богатой фантазии. Вспомним, скрепя сердце, о мнимом столкновении Грозного с митрополитом Филиппом, которое сочинитель описывает следующим восхитительным образом: «В разгар казни входит царь в Успенский собор. Его встречает митрополит, полный решимости по долгу сана своего печаловаться, заступаться за обреченных на казнь. «Молчи, — прерывает его Грозный, едва сдерживая гнев, — одно тебе говорю, молчи, отец святой, молчи и благослови нас». «Наше молчание, — ответствовал владыка, — грех на душу твою налагает и смерть наносит». «Ближние мои, — прерывает Филиппа Грозный, — стали на меня, ищут мне зла. Какое тебе дело до наших царских предначертаний?» Удивительная детализация разговора! Не правда ли? Где автор мог почерпнуть такие подробности? Что-то я не припомню, чтобы Царь и святитель оставили по себе мемуары. Сколько картинности, сколько сильных эмоций в этом диалоге! Чем не эпизод для остросюжетного фильма? Особенно умиляет выражение «едва сдерживая гнев«. Складывается впечатление, что сочинитель не только обладал чудесной машиной времени, сделавшей его свидетелем означенной встречи, но и был выдающимся телепатическим экстрасенсом, способным определять степень гнева исторического персонажа. Да, все это было бы смешно, если бы речь шла не о чести и достоинстве живого человека, реальной личности. На сем трагикомическом фундаменте карамзинских нелепостей некоторые из нас строят далеко идущие выводы о взаимоотношениях Государя и митрополита, заявляя даже о причастности первого к насильственной смерти второго.
Для нас, переступивших порог третьего тысячелетия, кончина святителя, жившего в XVI столетии, загадочна и закрыта завесой таинственности. Некоторые, основываясь на карамзинских вымыслах, утверждают, что архипастырь был убит Грозным руками Малюты Скуратова и что последний в момент преступления беседовал с владыкой наедине. Ни один порядочный следователь, разбирающий свежее убийство, не обвинит в нем подозреваемого только за то, что тот незадолго до смерти убитого разговаривал с ним с глазу на глаз, хотя бы и испытывая к нему неприязнь. Потребны более весомые аргументы, улики, вещественные доказательства. А их-то и нет у тех, кто обвиняют царя в преступлении, совершенном без свидетелей более четырех веков назад. Одним лишь небесам известно, что случилось тогда в уединенной келлии тверской обители. Почему мы должны отвергать версию о естественной смерти архипастыря? В почтенных летах ему довелось претерпеть страшную клевету, низведение с митрополичьего престола и тяжкую ссылку в Отрочь монастырь. Все сие вполне могло вызвать преждевременную кончину. Допускаю, что святитель умерщвлен не злодейскою рукою, а злодейскою клеветою и последующим позором, ибо кто из нас способен спокойно перенести столь тяжелое испытание?
Интересно взглянуть на девятый том и в источниковедческом аспекте. Карамзин приступил к сбору материалов для описания царствования Иоанна IV в начале 1812 года, накануне наполеоновского вторжения. В знаменитом московском пожаре, ставшем кульминацией Отечественной войны, погибли все столичные библиотеки и архивы, в том числе и обширное собрание книг и рукописей сочинителя. Уцелело лишь синодальное книгохранилище. Чем же довольствовался Карамзин в описании времени Иоанна Васильевича? Поистине жалкими крохами исторических документов, уцелевших в пожарах, грабежах и суматохе военного лихолетия. Смирнов так рисует плачевное положение, в коем оказался писатель: «В Астафьеве, по счастию войной нетронутом, хотя в окрестностях и были небольшие сшибки с неприятелем, обрадованный тем, что некоторые его рукописи уцелели, Карамзин возобновил работу над «Историей», раскладывал бумаги и книги, однако с горечью констатировал: «Не имею и половины нужных материалов». Источниковедческая база новых томов расширялась также и благодаря появлению мемуарных свидетельств вроде записок Андрея Курбского и Палицина и свидетельств осведомленных иностранцев. Последние несли важную, часто уникальную, неповторимую информацию, но отличались односторонностью, субъективизмом, а иногда и явной тенденциозностью, принимавшей подчас форму русофобии«. Каково?! Русская история пишется на материалах, пропитанных нелюбовью, а зачастую и ненавистью ко всему русскому. Как вам это нравится? Одной из этих русофобских книг являются «Записки о Московии» австрийского дипломата и лазутчика Герберштейна, жившего некоторое время при дворе Грозного. В ней утверждалось, что на Руси нет свободных людей, что все – холопы и рабы. Несомненная клевета, ибо автор «Записок» не мог не знать, что у нас даже именитые бояре называли себя холопами государя, что народ пользовался гражданскою свободою, что несвободными были только крепостные холопы, потомки военнопленных и людей купленных, лишенные вольности законом. В XVI столетии одна гражданская власть могла казнить холопов смертью. Тогдашние крестьяне Московии, платя оброк феодалам, имели личную свободу и движимую собственность. Подробному описанию русского быта во времена Иоанна IV я хотел бы посвятить следующую публикацию. Любопытно будет посмотреть, как жили наши предки, «угнетаемые кровавым деспотом«.
 Вернемся, однако, к карамзинским баранам. В своем предисловии к «Истории» он замечает: «И вымыслы нравятся. Но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина«. Знаменательная фраза, которая многое объясняет. Писатель, очевидно, испытывал полное удовольствие, когда использовал в своей работе монографии Курбского, насыщенные вымыслами. Вот оценка предателя и клеветника, данная ему автором «Истории»: «Муж битвы и совета, участник всех завоеваний Иоанновых, герой под Тулою, под Казанью, в степях башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина, столь знаменитого, в число государственных преступников. Он мог без угрызения совести искать убежища от гонителя в самой Литве. К несчастию сделал более: пристал ко врагам отечества, обласканный Сигизмундом, предал ему свою честь и душу, советовал, как губить Россию«. В ином месте он справедливо замечает, что «некогда славный ратными подвигами и славою ума Курбский покрыл свои последние дни в бесславии преступления, тоскуя о России, именуя оную любимым отечеством, проводя дни в описании славного взятия Казани, хода Ливонской войны, ища утешения то в переводах Цицерона, то в описании Иоанновых злодейств«.
Вернемся, однако, к карамзинским баранам. В своем предисловии к «Истории» он замечает: «И вымыслы нравятся. Но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина«. Знаменательная фраза, которая многое объясняет. Писатель, очевидно, испытывал полное удовольствие, когда использовал в своей работе монографии Курбского, насыщенные вымыслами. Вот оценка предателя и клеветника, данная ему автором «Истории»: «Муж битвы и совета, участник всех завоеваний Иоанновых, герой под Тулою, под Казанью, в степях башкирских и на полях Ливонии, некогда любимец, друг царя возложил на себя печать стыда и долг на историка вписать гражданина, столь знаменитого, в число государственных преступников. Он мог без угрызения совести искать убежища от гонителя в самой Литве. К несчастию сделал более: пристал ко врагам отечества, обласканный Сигизмундом, предал ему свою честь и душу, советовал, как губить Россию«. В ином месте он справедливо замечает, что «некогда славный ратными подвигами и славою ума Курбский покрыл свои последние дни в бесславии преступления, тоскуя о России, именуя оную любимым отечеством, проводя дни в описании славного взятия Казани, хода Ливонской войны, ища утешения то в переводах Цицерона, то в описании Иоанновых злодейств«.
Вот он – зловонный источник инсинуаций и легенд, из коего обильно черпал Карамзин, рисуя личность русского Царя. Несомненно, князь Андрей клеветал на него, дабы предстать в глазах своих современников и читателей невинной жертвой кровавой тирании. Но была и другая причина этих подлых измышлений – политическая. Они лили воду на мельницу врагов России: страна теряла союзников и друзей, справедливо полагавших, что тиран собственного народа не может быть благотворителем чужих. Кстати, Курбский, предавая Отечество и покидая русский Дерпт, оставил в нем жену и девятилетнего сына (на растерзание мучителю?). Интересно, как бы он поступил, если бы его обвинения в адрес Царя были справедливы. Что ж наш писатель? Понимал ли он это? Конечно, понимал. Тем страшнее то, что им написано. Итак, тот факт, что Карамзин в своей работе над девятым томом испытывал источниковедческий голод и сознательно использовал лживые свидетельства, существенно подрывает значимость его писаний для определения истинного положения вещей.
Нельзя обойти молчанием и те трагические обстоятельства, которые сопутствовали данной деятельности. Работа по созданию первых томов «Истории» не раз прерывалась долгими и тяжелыми недугами автора, который сообщал близким в сии дни, что слышит дыхание смерти. Постепенно угасало зрение, на что сочинитель часто жалуется в своих письмах. Вследствие этого и ряда иных препятствий труд, завершить который автор планировал в пять-шесть лет, растянулся на десятилетия и работа над девятым томом, как уже сообщалось, началась непосредственно перед нашествием галлов. Отечественная война прервала писательские занятия Карамзина на многие месяцы. Полагаю, что промысел Божий тем самым указывал ему остановиться, одуматься, не совершать задуманное зло. Однако призыв сей оказался тщетным: подготовка к описанию мнимых злодейств «Ивашки» продолжалась.
В сие время уходит в мир иной чадо писателя. Угнетаемый этой тяжкой утратой, а также гибелью в пожаре личной библиотеки с архивом и прочими потрясениями, он в мае 1817 года пишет брату Василию Михайловичу: «остановился на злодействии Грозного (до 1560 г.). Бог знает, буду ли продолжать«. А в сентябре следующего года с грустью поведал Вяземскому: «Занимаюсь, как обыкновенно, но девятый том истории худо продвигается вперед«.
Да, действительно, ни один другой том не отнял у него столько времени и сил. Работа над пресловутой книгой началась осенью 1816 года, и только 10 декабря 1820 года автор сообщил Малиновскому, директору Государственного архива, о ее окончании. Незадолго до того, весной 1820 года, все бумаги Карамзина вновь подверглись смертельной опасности от огненной стихии. 11 мая, вскоре после его переезда в китайский домик Царского Села, в большом Екатерининском дворце возник страшный пожар. Внезапно налетевшая буря превратила незначительное воспламенение в огненное море, так что по всему обширному парку разлетались горящие головешки. 14 числа писатель сообщал Дмитриеву: «Пишу тебе с пепелища. Третьего дня сгорело около половины здешнего великолепного дворца, церковь, лицей, комнаты императрицы Марии Феодоровны и государей«. От огненного дождя, обрушившегося на крышу китайского домика, она вспыхнула, словно солома. При ее тушении все книги, документы и подготовительные наработки Карамзина оказались подмоченными, как и его репутация. Не пламенеющие ли херувимы вмешались в описываемую нами подлую авантюру, наложив на нее огненную печать Божьего гнева?
Но и после этого бедствия несчастный не одумался. Поезд его помраченной души неудержимо несся вниз навстречу своей гибели, и уже ничто не могло остановить его. Сочинитель не захотел отказаться от клеветнических выпадов в адрес Иоанна Васильевича, нелепость коих очевидна. К примеру, он указывает, что «душегуб«, оказывается, обладал редкой памятью, знал наизусть Библию, историю греческую и римскую. Я не могу принять, что Грозный был «душегубом«, даже в качестве версии, ибо по моему убеждению злодейство не сочетается с обширной ученостью. Душегубство есть удел лишь людей грубых и непросвещенных. Хотя и бывают кровопийцы, обремененные разносторонними сведениями в науках, но кто из них мог похвастаться знанием назубок Священного Писания? Чтобы стяжать такую просвещенность, надо упражняться в усвоении библейских речений ежедневно по несколько часов на протяжении многих лет. Мало того, должно иметь сердечную привязанность к Писаниям и прилагать их к собственной смиряющейся душе, словно целебный пластырь. Далеко не каждый канонизированный святой знал Библию наизусть. Я могу припомнить лишь одного подвижника благочестия, ум которого как бы плавал в светоносных изречениях Нового Завета. Это преподобный Серафим Саровский. Как же мы, православные, можем давать веру явным нелепостям распоясавшегося якобинца? Полагаю, что одна из причин этого – чтение «Истории» без должной вдумчивости и здравой критики.
Окончив создание девятого тома, Карамзин не решился сразу же отдать его в печать. Знала лиса, что рыльце в пуху. Слишком велика была опасность подвергнуться освистанию и остракизму со стороны умных и подлинно просвещенных людей, не зараженных революционным обскурантизмом. Возникла идея провести публичные чтения этой книги в Российской академии наук. Они состоялись в январе 1821 года. С высокой академической трибуны полились на слушателей потоки гнусной лжи, облаченной в блистательную форму карамзинского красноречия. Направляя острие своего выступления против самодержавной власти в лице Александра I, коварный интриган прилагал к «Ивашке-мучителю» эпитеты, адресовавшиеся тогда личности императора: благословенный, любимый, обожаемый, царь мира, всех предков затмивший. Государя не было на этих чтениях, но имя его незримо присутствовало в академической зале со всеми его титулами и эпитетами, которые теперь усвоялись иному царю, чье имя в умах слушателей должно было ассоциироваться с лютым деспотизмом.
 Да, чтец был незаурядным специалистом в области очернения. В этом ему не откажешь. Смирнов добавляет к этому: «И когда историограф заговорил об угрызениях совести Иоанна («глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его»), слушатели не могли не вспомнить о муках венценосного косвенного отцеубийцы… Тут, конечно, Карамзин выходил за узкие характеристики одной личности… Речь историографа рождала ассоциации, пробуждала исторические аналогии. Чтец, как бы идя навстречу этому рою воспоминаний и размышлений, называет царя мучителем, коему равного нет и в самых Тацитовых летописях. Многозначительно уже само напоминание о временах Тацита: это – Рим перед гибелью своей. Но в устах Карамзина оно несло еще и дополнительную ассоциативность, невольно воскрешая в памяти слушателей его собственного Тацита, прямо звавшего к возмущению, к ниспровержению, «чего без подлости терпеть не можно«.
Да, чтец был незаурядным специалистом в области очернения. В этом ему не откажешь. Смирнов добавляет к этому: «И когда историограф заговорил об угрызениях совести Иоанна («глас неумолимой совести тревожил мутный сон души его»), слушатели не могли не вспомнить о муках венценосного косвенного отцеубийцы… Тут, конечно, Карамзин выходил за узкие характеристики одной личности… Речь историографа рождала ассоциации, пробуждала исторические аналогии. Чтец, как бы идя навстречу этому рою воспоминаний и размышлений, называет царя мучителем, коему равного нет и в самых Тацитовых летописях. Многозначительно уже само напоминание о временах Тацита: это – Рим перед гибелью своей. Но в устах Карамзина оно несло еще и дополнительную ассоциативность, невольно воскрешая в памяти слушателей его собственного Тацита, прямо звавшего к возмущению, к ниспровержению, «чего без подлости терпеть не можно«.
А ведь в зале сидели лица, хорошо знавшие о событии 12 марта (убийство Павла, отца Александра). Ситуация повторялась. Якобинцы, присутствовавшие на чтениях, разгадали все эти авторские недомолвки и встретили их бурными аплодисментами. К счастью, иные слушатели восприняли услышанное с должной осмотрительностью. Смирнов замечает: «Люди с изумлением спрашивали друг у друга, каким гибельным наитием государь, дотоле пример воздержания и чистоты душевной, мог унизиться до распутства«.
 На нелепость и антинаучность карамзинского деления биографии царя на два периода (добродетель и тирания) указывал приснопамятный митрополит Иоанн (Снычев) в выдающемся труде «Самодержавие духа». Публичное обличение «злодейств Ивашки» явилось ударом по контрреволюционному аракчеевскому режиму, тщательно рассчитанным и умно облаченным в исторические формы. В числе первых это подметил цесаревич Константин, заявивший: «Книга его (Карамзина) наполнена якобинскими поучениями, прикрытыми витиеватыми фразами«. Он безапелляционно возражал против публичного обсуждения и осуждения деяний Иоанновых, ибо это наносит удар по престижу царской власти. Подобным образом высказывался и духовный столп самовластия святитель Филарет (Дроздов), писавший: «Читающий и чтения были привлекательны, но читаемое страшно«. К этому он добавлял, что без ужаса не может вспомнить о публичном выступлении Карамзина.
На нелепость и антинаучность карамзинского деления биографии царя на два периода (добродетель и тирания) указывал приснопамятный митрополит Иоанн (Снычев) в выдающемся труде «Самодержавие духа». Публичное обличение «злодейств Ивашки» явилось ударом по контрреволюционному аракчеевскому режиму, тщательно рассчитанным и умно облаченным в исторические формы. В числе первых это подметил цесаревич Константин, заявивший: «Книга его (Карамзина) наполнена якобинскими поучениями, прикрытыми витиеватыми фразами«. Он безапелляционно возражал против публичного обсуждения и осуждения деяний Иоанновых, ибо это наносит удар по престижу царской власти. Подобным образом высказывался и духовный столп самовластия святитель Филарет (Дроздов), писавший: «Читающий и чтения были привлекательны, но читаемое страшно«. К этому он добавлял, что без ужаса не может вспомнить о публичном выступлении Карамзина.
Думаю, что мнение выдающегося архипастыря нашей Церкви должно быть тем светочем, который вел бы нас по историческим лабиринтам, указывая правильное осмысление карамзинского наследия.
Русский быт во второй половине 16-го века
Многие не представляют себе, как жили наши предки в годы правления Иоанна Грозного и его благочестивейшего сына Феодора, прославленного Русской Православной Церковью. Кстати, не будем забывать и про канонизацию царевича Димитрия. Не слишком ли много святых среди чад «мучителя»? Яблоко от яблони, как известно, недалеко падает.
Если, по слову Псалтири, с преподобным преподобен будешь, а со строптивым развратишься, то откуда в детях Грозного столько благонравия и молитвенности? Вопрос, по-моему, риторический.
 При описании указанного времени я буду обильно использовать сведения самого Карамзина, дабы показать внутреннюю противоречивость его наследия и поставить под сомнение ту негативную оценку, которую он дает личности Царя Иоанна и его правлению. К примеру, говоря о блистательных почестях, оказанных персидским шахом Аббасом Феодорову посланнику князю Андрею Звенигородскому, он пишет: «За обедом, сидя с ним рядом, шах сказал: «Видишь ли посла индейскаго, сидящаго здесь ниже тебя? Монарх его, Джеладдин Айбер, владеет странами неизмеримыми, едва ли не двумя третями населеннаго мира, но я уважаю твоего Царя еще более».» Не много ли чести для Российской державы, которая за несколько лет до того, по утверждению Карамзина, была обескровлена и разорена опричным террором и самодурством венценосного тирана?
При описании указанного времени я буду обильно использовать сведения самого Карамзина, дабы показать внутреннюю противоречивость его наследия и поставить под сомнение ту негативную оценку, которую он дает личности Царя Иоанна и его правлению. К примеру, говоря о блистательных почестях, оказанных персидским шахом Аббасом Феодорову посланнику князю Андрею Звенигородскому, он пишет: «За обедом, сидя с ним рядом, шах сказал: «Видишь ли посла индейскаго, сидящаго здесь ниже тебя? Монарх его, Джеладдин Айбер, владеет странами неизмеримыми, едва ли не двумя третями населеннаго мира, но я уважаю твоего Царя еще более».» Не много ли чести для Российской державы, которая за несколько лет до того, по утверждению Карамзина, была обескровлена и разорена опричным террором и самодурством венценосного тирана?
За что же Аббас мог так уважать русский престол? Ответ на этот вопрос мы обретаем у автора «Истории Государства Российского»: «Никогда внешния обстоятельства Московской Державы, основанной, изготовленной к величию Иоанном III, не казались столь благоприятными для ея целости и безопасности, как в сие время… Россия, спокойная извне, тихая внутри, имела войско многочисленнейшее в Европе, и еще непрестанно умножала его… Пятнадцать тысяч дворян, разделенных на три степени: Больших, Средних и Меньших, Московских и так называемых Выборных (присылаемых в столицу из всех городов, и чрез три года сменяемых иными), составляют конную дружину Царскую. Шестьдесят пять тысяч всадников, из Детей Боярских, ежегодно собирается на берегах Оки, в угрозу Хану. Лучшая пехота Стрельцы и Козаки: первых 10000, кроме двух тысяч отборных или Стремянных; вторых около шести тысяч. На ряду с ними служат 4300 Немцев и Поляков, 4000 Козаков Литовских, 150 Шотландцев и Нидерландцев, 100 Датчан, Шведов и Греков. Для важного ратного предприятия выезжают на службу все Поместные Дети Боярские с своими холопями и людьми даточными (из отчин Боярских и церковных), более крестьянами, нежели воинами, хотя и красиво одетыми (в чистые, узкие кафтаны с длинным, отложным воротником): невозможно определить их числа, умножаемого в случае нужды людьми купецкими, также наемниками и слугами Государя Московского, Ногаями, Черкесами, древними подданными Казанского Царства. Сборныя областныя дружины называются именами городов своих: Смоленскою, Новогородскою, и проч.; в каждой бывает от 300 до 1200 ратников. Многие вооружены худо; только пехота имеет пищали: но огнестрельный снаряд не уступает лучшему в Европе. Доспехи и конские приборы воевод, чиновников, дворян блистают светлостию булата и каменьями драгоценными; на знаменах, освящаемых Патриархом, изображается св. Георгий«.
Однако помилуйте! Нам внушают, что воспаленное воображение Грозного рисовало безчисленные картины мнимых заговоров, что кромешники его покрыли землю русскую трупами своих жертв, что в одном Новгороде Великом они умертвили 700 000 невинных людей, что бездарный деспот малодушеством своим на театре военных действий обрекал русские полки на безполезное истребление. Ежели так, то он со своими клевретами ничем не лучше нынешних демократов, под властью которых численность русского народа ежегодно сокращается на миллион человек. Откуда же в таком случае в правление его сына явилось столь прекрасное и мощное войско, коему не было числа?

Говоря о колоссальных казенных доходах тогдашней России, Карамзин указывает: «…В сокровищницу Кремлевскую, под Феодорову или Годунова печать, ежегодно вступало, сверх главных государственных издержек на войско и Двор, не менее миллиона четырех сот тысяч рублей (от шести до семи миллионов нынешних серебряных)» и далее: «…Феодор, по совету Годунова, велел перелить в деньги множество золотых и серебряных сосудов наследованных им после отца…» В ином месте автор повествует, как выглядели некоторые из этих сосудов: «Арсений (греческий епископ — М.Е.) с изумлением видел также множество огромных серебряных и золотых сосудов во дворце; одни имели образ зверей: единорога, львов, медведей, оленей; другие образ птиц: пеликанов, лебедей, фазанов, павлинов, и были столь необыкновенной тяжести, что 12 человек едва могли переносить их с места на место». Часть сих сосудов отлита из ливонского серебра, добычи Иоаннова оружия. Вот они – следствия «разорительного» правления «кровопийцы»! Страна под его руководством была, оказывается, приведена в такое плачевное состояние, что бедному Феодору пришлось ломать голову, что делать со всем этим несметным сокровищем, приобретенным его отцом.
Описывая становление у нас гражданского права в XVI веке Карамзин пишет: «…Вопреки сказанию иноземцев, что в России не было тогда никаких гражданских законов, кроме слепаго произвола Царей, сии законы, изданные первым Самодержцем Московским (что достойно примечания), дополненные его сыном, исправленные., усовершенные внуком, служили неизменным правилом во всех тяжбах – и Грозный, попирая святые уставы человечества, оставлял гражданские ненарушимыми в России: не отнимал даже истинной Царской собственности у тех, которые могли доказать, что владеют ею долее шести лет«.
Забавно! Кто-нибудь может мне объяснить, что такое попирать святые уставы человечества, не нарушая гражданских законов? Каким, однако, законопослушным «тираном» был Иоанн Васильевич! Похоже, что закулисная братия держит нас, русских людей, за легковерных простачков. Что ж? Поделом нам. Впредь не будем столь легкомысленны.
Описывая деликатное обращение с разбойниками в царствование Феодора, автор «Истории» говорит: «Чтобы выведать истину от уличаемаго преступника, жгли его несколько раз огнем, ломали ему ребра, вбивали гвозди в тело. Убийц и других злодеев вешали, казнили на плахе, или топили, или сажали на кол. Осужденный, идучи к лобному месту, держал в связанных руках горящую восковую свечу«. Что ж? Такое обхождение с уголовниками в те времена было принято по всему свету. Грозный в этом смысле ничем не отличался от иных государей той эпохи.
Обратимся, однако, к приятной стороне вопроса. Англичане, на которых ссылается Карамзин, так описывают изобилие россиян в означенное время: «Мало земель в свете, где Природа столь милостива к людям, как в России, изобильной ея дарами, В садах и огородах множество вкусных плодов и ягод: груш, яблок, слив, дынь, арбузов, огурцев, вишни, малины, клубники, смородины; самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины покрыты хлебом: пшеницею, рожью, ячменем, овсом, горохом, гречею, просом. Изобилие раждает дешевизну: четверть пшеницы стоит обыкновенно не более двух алтын (нынешних тридцати копеек серебром)«.
В торговле внешней у нас преобладали меха собольи, лисьи, куньи, бобровые, рысьи, волчьи, медвежьи, горностаевые, беличьи, кои продавались в Европу и Азию на 300 000 рублей ежегодно, воск весом от 10 000 до 30 000 пудов (1 пуд – 16 килограммов), мед, бывший любимым питием русичей, сало весом от 30 000 до 100 000 пудов. В этой связи иностранцы отмечали: «…Вся Россия, богатая лугами для скотоводства, изобилует салом, коего мало расходится внутри Государства на свечи: ибо люди зажиточные употребляют восковыя, а народ – лучину«. Кроме того от избытков своих мы предлагали иноземцам лосьи и оленьи кожи до 10 000 в год, жир тюлений, добываемых близ Архангельска в заливе св. Николая, рыбу, икру белужью, осетровую, севрюжью и стерляжью, множество птиц, лен, пеньку, соль, ценимую в те времена почти что на вес золота, деготь, моржовые клыки, из коих вырезались рукоятки и четки, слюду, употреблявшуюся вместо стекла, новогородский жемчуг и многое иное.
Англичанин Флетчер, написавший в сие время книгу о России, указывал в ней, что русские люди весьма способны к просвещению, «имея много ума природнаго, заметнаго и в самых детях«. Грозный отличал одаренных юношей и поощрял их стремление к образованию, о чем свидетельствует сам Николай Михайлович: «…Самовластный Иоанн посылал молодых людей учиться в Европе. Заботясь о процветании у нас художеств и наук, сей государь звал к себе на службу выдающихся иностранцев, славных своим умом и. опытностью в искусствах, например, итальянского графа Шкота. Современники утверждали, что «сей Граф, достойно уважаемый Императором и многими Венценосцами, знает все языки под солнцем и все науки, так, что ни в Италии, ни в Германии нельзя найти ему подобнаго«. Так кем же все-таки был Иоанн IV, мрачным извергом или просвещенным монархом? Карамзин, как видим, противоречит сам себе, когда пишет о русских царях того времени, в том числе и о Грозном: «Постоянно следуя правилам Иоанна III; золотом и честию маня к себе художества искусства науки Европейския; размножая церковныя училища и число людей грамотных, Приказных, коим самое Дворянство завидовало в их важности государственной, Цари без сомнения не боялись просвещения, но желали как могли или умели ему способствовать«. К сему времени относится появление первых русских учебников по геометрии и арифметике. В предисловии к последней говорилось, что «без сей численной Философии, изобретения Финикийскаго, единой из семи свободных мудростей, нельзя быть ни Философом, ни Доктором, ни гостем искусным в делах торговых, и что ея знанием можно снискать великую милость Государеву«. В обеих книгах употребляются в счислении славянские цифры. В правление Феодора возникла и Книга Большаго Чертежа, то есть древнейшая география государства российского.
Говоря о тогдашней русской словесности, Карамзин не мог умолчать о писаниях Грозного: «Причислим ли к Писателям и самого Иоанна, как творца плодовитых, велеречивых посланий богословских укорительных и насмешливых? В слоге его есть живость, в Диалектике сила. Лучшими творениями сего века в смысле правильности и ясности должно назвать Степенную Книгу, Минею Макариеву и Стоглав«. Государь принял непосредственное участие в создании этих шедевров Российской словесности. Читая его переписку с князем Андреем Курбским, я не удивляюсь бездарности последнего, но не перестаю изумляться остроумием и просвещенностью русского царя, изяществом его слога, А какими похвалами оценить его богослужебные гимны, положенные на знаменный распев и вошедшие в сокровищницу национальной культуры?!
Заимствованное от греков искусство золотошвеев издревле цвело у нас, так что богатые и сановные люди носили одежду, шитую золотом. Итальянский мастер Марко Чинопи, вызванный Феодором, ткал бархат и парчи в доме подле Успенского собора. Размножение церквей увеличило число изографов. Именно в сие время мы начали писать и картины. Большая грановитая и Золотая грановитая палаты, творения двух единоименных государей, прозванных в летописях Грозными, украсились живописью.
 Достойно замечания описание историографом стольного града: «Успехи гражданскаго образования были заметны и в наружном виде столицы. Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, но и разширением улиц, вымощенных деревом и менее прежняго грязных. Число красивых домов умножилось: их строили обыкновенно из сосноваго леса, в два или в три жилья с большими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах летния спальни и каменныя кладовыя«. Первопрестольная, состоявшая тогда из Кремля, Китая, Белого города, Замоскворечья и дворцовых слобод за Яузою, имела в окружности около 20 верст. В Кремле насчитывалось 35 каменных церквей. По всей Москве было более 400 храмов (кроме приделов) и не менее 5 000 колоколов. По утверждению иностранцев, в часы праздничного звона люди не могли, слышать друг друга. Когда цари проезжали через городские ворота или принимали иноземных послов, на кремлевской площади гремел главный колокол столицы весом в тысячу пудов, висевший на деревянной звоннице. Важнейшим украшением Китай-города, окруженного кирпичною небеленую стеною, был великолепный готический собор Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного), выстроенный благочестивым усердием Иоанна Грозного в память о славном взятии Казани. Подле обретался богатый арсенал или пушечный двор. Тут же стояли красивые домы бояр, вельмож, знатных купцов, а также обширный гостиный двор, разделенный на 20 специализированных рядов: шелковый, суконный и т.д. От Китая к Замоскворечью через Москву-реку, именовавшуюся прежде Смородинкою, были перекинуты два моста: живой (деревянный) и каменный. Окрест зданий зеленели рощи, луга, сады, огороды, а возле дворца косили сено. Немалую долю кремлевской территории занимали три государевых сада, из коих по весне разливалось благоухание цветов и соловьиное пение. Две мельницы на устье Неглинной и на Яузе дополняли сельскую картину Москвы.
Достойно замечания описание историографом стольного града: «Успехи гражданскаго образования были заметны и в наружном виде столицы. Москва сделалась приятнее для глаз не только новыми каменными зданиями, но и разширением улиц, вымощенных деревом и менее прежняго грязных. Число красивых домов умножилось: их строили обыкновенно из сосноваго леса, в два или в три жилья с большими крыльцами, с дощатыми свислыми кровлями, а на дворах летния спальни и каменныя кладовыя«. Первопрестольная, состоявшая тогда из Кремля, Китая, Белого города, Замоскворечья и дворцовых слобод за Яузою, имела в окружности около 20 верст. В Кремле насчитывалось 35 каменных церквей. По всей Москве было более 400 храмов (кроме приделов) и не менее 5 000 колоколов. По утверждению иностранцев, в часы праздничного звона люди не могли, слышать друг друга. Когда цари проезжали через городские ворота или принимали иноземных послов, на кремлевской площади гремел главный колокол столицы весом в тысячу пудов, висевший на деревянной звоннице. Важнейшим украшением Китай-города, окруженного кирпичною небеленую стеною, был великолепный готический собор Покрова Божией Матери (храм Василия Блаженного), выстроенный благочестивым усердием Иоанна Грозного в память о славном взятии Казани. Подле обретался богатый арсенал или пушечный двор. Тут же стояли красивые домы бояр, вельмож, знатных купцов, а также обширный гостиный двор, разделенный на 20 специализированных рядов: шелковый, суконный и т.д. От Китая к Замоскворечью через Москву-реку, именовавшуюся прежде Смородинкою, были перекинуты два моста: живой (деревянный) и каменный. Окрест зданий зеленели рощи, луга, сады, огороды, а возле дворца косили сено. Немалую долю кремлевской территории занимали три государевых сада, из коих по весне разливалось благоухание цветов и соловьиное пение. Две мельницы на устье Неглинной и на Яузе дополняли сельскую картину Москвы.
Однако двор царский, согласно описанию Карамзина, являл величие, достойное русских венценосцев: «…Все утихало, когда Царь являлся в величии разительном для Послов иноземных. Закрыв глаза, пишут очевидцы, всякой сказал бы, что дворец пуст. Сии многочисленные, золотом облитые сановники и безмолвны и недвижимы, сидя на лавках в несколько рядов, от дверей до трона, где стоят Рынды в одежде белой, бархатной или атласной, опущенной горностаем, в высоких белых шапках, с двумя золотыми цепями (крестообразно висящими на груди), с драгоценными секирами, подъятыми на плечо, как бы для удара…. Во время торжественных царских обедов служат 200 или 300 Жильцев, в парчовой одежде, с золотыми цепями на груди, в черных лисьих шапках. Когда Государь сядет (на возвышенном месте, с тремя ступенями, один за трапезою золотою), чиновники – служители низко кланяются ему, и по два в ряд идут за кушаньем. Между тем подают водку: на столах нет ничего, кроме хлеба, соли, уксусу, перцу, ножей и ложек; нет ни тарелок, ни салфеток. Приносят вдруг блюд сто и более: каждое, отведанное поваром при Стольнике, вторично отведывается Крайчим в глазах Царя, который сам посыпает гостям ломти хлеба, яства, вина, мед, и собственною рукою, в конце обеда, раздает им сушеныя Венгерский сливы…«
Послов иноземных у нас потчевали обычными русскими снедями. К примеру, в 1597 году к столу австрийского посланника отпускали «из Дворца Сытнаго семь кубков Романеи, столько же Рейнскаго, Мушкателя, Французскаго белаго. Бастру (или Канарскаго вина), Аликанту и Мальвазии; 12 ковшей меду вишневаго и других лучших; 5 ведр смородиннаго, можжевеловаго, черемуховаго и проч.; 65 ведр малинаваго, Боярскаго, Княжаго – из Кормоваго Дворца 8 блюд лебедей, 8 блюд журавлей с пряным зельем, несколько петухов разсольных с инбирем, куриц безкостных, тетеревей с шафраном, рябчиков с сливами, уток с огурцами, гусей с пшеном Срацинским, зайцев в лапше и в репе, мозги лосьи (и проч.), ухи шафранныя (белыя и черныя), кальи лимонныя и с огурцами – из Дворца Хлебеннаго колачи, пироги с мясом, с сыром и сахаром, блины, оладьи, кисель, сливки, орехи и проч.«.
 Изобилие трапез и долгий сон полуденный производили в русских людях тучность, вменявшуюся в достоинство. Считалось, что дородный человек имеет право на уважение. Худощавости и белизны лица избегали как уродства. Тонкие девицы, желавшие выйти замуж, носили множество одежд и натирали ланиты свеклою, дабы выглядеть мощными и розовощекими, то есть способными к ведению нелегкого домашнего хозяйства. Девушки уже к двенадцати годам достигали зрелости ума и тела, посему браки в этом возрасте были явлением обыкновенным. Продолжительность жизни наших предков, по утверждению Карамзина, составляла 80-100 и даже 120 лет. Хотелось бы мне знать, как они умудрялись жить столь долго под властью «кровожадного мучителя»! Что же спасало их от гнетущей депрессии и оцепенения, в которые они повергались «Ивашкиным произволом»? Ответ, очевидно, содержится в указании незадачливого историографа: «…Россияне, кроме знатных, не верили Аптекам, простые люди обыкновенно лечились вином с истертым в нем порохом, луком или чесноком, а после банею«. Иностранцы изумлялись тем, как русичи, распаренные в раскаленных банях, с легкостью и весельем бросались в снег или прорубь.
Изобилие трапез и долгий сон полуденный производили в русских людях тучность, вменявшуюся в достоинство. Считалось, что дородный человек имеет право на уважение. Худощавости и белизны лица избегали как уродства. Тонкие девицы, желавшие выйти замуж, носили множество одежд и натирали ланиты свеклою, дабы выглядеть мощными и розовощекими, то есть способными к ведению нелегкого домашнего хозяйства. Девушки уже к двенадцати годам достигали зрелости ума и тела, посему браки в этом возрасте были явлением обыкновенным. Продолжительность жизни наших предков, по утверждению Карамзина, составляла 80-100 и даже 120 лет. Хотелось бы мне знать, как они умудрялись жить столь долго под властью «кровожадного мучителя»! Что же спасало их от гнетущей депрессии и оцепенения, в которые они повергались «Ивашкиным произволом»? Ответ, очевидно, содержится в указании незадачливого историографа: «…Россияне, кроме знатных, не верили Аптекам, простые люди обыкновенно лечились вином с истертым в нем порохом, луком или чесноком, а после банею«. Иностранцы изумлялись тем, как русичи, распаренные в раскаленных банях, с легкостью и весельем бросались в снег или прорубь.
Как видим, жизнь русских людей в мирное время XVI столетия была светлой и радостной. На престоле царствовали благочестивые государи, радевшие о процветании Отечества и о благоденствии своих подданных. Россия богатела и распространялась с каждым годом все более и более, что вызывало зависть и злобу в ее недругах. Поистине, нигде в истории человечества не видно народа, более счастливого, чем русские люди в годы правления Иоанна IV Васильевича и сына его Феодора.
Итоги
В цикле работ под общим названием «Карамзинская нелепа» я попытался объективно осветить концепцию «Истории Государства Российского» и условия, в которых она создавалась. Цель всех этих статей – показать, что личность Иоанна Грозного и его деяния после 1560 года (время мнимой перемены русского Царя: благодетель сменяется тиранией) далеко не так однозначны, как это представлено автором «Истории» Н.М. Карамзиным. Что есть иной, оправдательный взгляд на Государя, жаркие споры вокруг имени которого не только не утихают, но и приобрели особую актуальность в современной церковной жизни.
Имя русского Царя продолжает хулиться и попираться, с одной стороны либералами, на дух не переносящими идею самодержавной власти и, с другой стороны, легковерными христианами, введенными в заблуждение различными публикациями псевдонаучного содержания. Видя среди них немало тех, кои именуют себя церковными людьми, я почел своим долгом посредством настоящего издания поделиться с ними некоторыми своими соображениями, относящимися к сему предмету и размещенными в рамках данного цикла. Подводя его итоги, хотел бы отметить следующее.
 Во всем мире, стоит только заговорить о Волге, вспоминают Россию. Это и неудивительно: Волга самая русская, самая знаменитая наша река. Удивительно то, что некоторые из нас забывают, чьим самоотверженным трудам мы обязаны включением в состав государства Российского низового течения Волги, омывающего Казанские и Астраханские земли. Впрочем, им ведомо, что в память об этих героических событиях отечественной истории Иоанн Васильевич воздвиг на Красной площади Московского Кремля великолепную церковь Покрова Божией Матери. Не могу постигнуть, как в сознании таких людей сей дивный и величественный храм, являющийся жемчужиной мировой архитектуры, соединяется с верой в людоедство и тиранию его создателя! Они говорят: «Слишком много свидетельств, именующих Грозного кровожадным деспотом». Да, много. Но как в таком случае должен рассуждать всякий здравомыслящий человек? Вот неизреченной красоты собор Василия Блаженного, памятник героизма и благочестия Государя, его создавшего, а вот девятый том карамзинской «Истории», о котором нами было говорено выше. Сочетается ли сие? Трезвенный ум не может с этим согласиться. Ясно, что одно другому противоречит. Стало быть, здесь мы стоим перед лицом некоей тайны, понуждающей нас остановиться, призадуматься, не рубить сплеча. С удовлетворением замечаю, что все больше и больше людей приходят именно к такому пониманию данной проблемы. На этой позиции стоит и святейший Патриарх Кирилл, который призывает церковную общественность к серьезным и всесторонним научным изысканиям, к объективному рассмотрению всех «про» и «контра» относительно личности русского Царя.
Во всем мире, стоит только заговорить о Волге, вспоминают Россию. Это и неудивительно: Волга самая русская, самая знаменитая наша река. Удивительно то, что некоторые из нас забывают, чьим самоотверженным трудам мы обязаны включением в состав государства Российского низового течения Волги, омывающего Казанские и Астраханские земли. Впрочем, им ведомо, что в память об этих героических событиях отечественной истории Иоанн Васильевич воздвиг на Красной площади Московского Кремля великолепную церковь Покрова Божией Матери. Не могу постигнуть, как в сознании таких людей сей дивный и величественный храм, являющийся жемчужиной мировой архитектуры, соединяется с верой в людоедство и тиранию его создателя! Они говорят: «Слишком много свидетельств, именующих Грозного кровожадным деспотом». Да, много. Но как в таком случае должен рассуждать всякий здравомыслящий человек? Вот неизреченной красоты собор Василия Блаженного, памятник героизма и благочестия Государя, его создавшего, а вот девятый том карамзинской «Истории», о котором нами было говорено выше. Сочетается ли сие? Трезвенный ум не может с этим согласиться. Ясно, что одно другому противоречит. Стало быть, здесь мы стоим перед лицом некоей тайны, понуждающей нас остановиться, призадуматься, не рубить сплеча. С удовлетворением замечаю, что все больше и больше людей приходят именно к такому пониманию данной проблемы. На этой позиции стоит и святейший Патриарх Кирилл, который призывает церковную общественность к серьезным и всесторонним научным изысканиям, к объективному рассмотрению всех «про» и «контра» относительно личности русского Царя.
В этой связи я вспоминаю дивную святоотеческую мудрость «лучше ошибиться в любви, чем в ее отсутствии». Это означает, что если о каком-то человеке высказываются прямо противоположные суждения, то христианин должен предпочесть сторону оправдания, любви и снисхождения. Кто же принимает апологетическую сторону того, кого Карамзин удостоил самых страшных и одиозных эпитетов? Среди священнослужителей и деятелей науки таких людей немало. В их числе мы обретаем одного из выдающихся иерархов и историков Русской Церкви – приснопамятного митрополита Иоанна (Снычева), изложившего свои позитивные взгляды на личность Царя в знаменитом труде «Самодержавие духа». Это глубокое историческое исследование являет нам образец того, как должен православный человек, считающий себя патриотом России, подходить к решению насущных проблем современной духовной жизни. Среди единомышленников владыки Иоанна обретается и замечательный пастырь наших дней – протоиерей Николай Гурьянов, словам которого церковный люд внимает как голосу истины. Сей дивный светоч современности не только выступал апологетом Иоанна Грозного и Григория Распутина, но и обращался к ним с молением о небесном предстательстве. Иной выдающийся священнослужитель предреволюционной России протоиерей Валентин Амфитеатров глубоко чтил память Грозного, говоря, что царевич Димитрий, угличский мученик, особенно усердно ходатайствует за тех, кто поминают его отца в своих молитвах. В переписке Царственных страстотерпцев Государя Императора Николая II и его благоверной супруги Александры Феодоровны мы встречаем мысли, указывающие на благосклонное отношение августейшей четы к личности Иоанна Васильевича. Свято чтил первого Российского Помазанника и венценосный отец Императора великомученика – Александр III, в годы правления которого в Грановитой палате Московского Кремля появилось изображение русского Царя с нимбом – знаком личного благочестия и доброй памяти потомков.
Научный мир ответил на полемику о Царе Иоанне выдвижением ряда ярких имен, одно из которых – Николай Сергеевич Арцыбашев (1773-1841). Перу этого замечательного исследователя принадлежит ряд критических работ, объединенных под общим названием «Замечания на «Историю» Н.М. Карамзина». Труд этот по сю пору не утратил своей актуальности. В одной из предыдущих статей данного цикла мною было говорено о публичных чтениях Карамзиным девятого антигрозненского тома его «Истории» в Петербургской Академии наук в январе 1821 года. Арцыбашев ответил на это антинаучное выступление разоблачительной работой, опубликованной в 12-м номере «Вестника Европы» за тот же год. В ней он показал крайнюю недостоверность одного из основных источников пресловутого тома – «Истории» князя Курбского.
Другим защитником Царя является Иван Егорович Забелин (1820-1908) основатель Российского исторического музея, автор замечательных исследований о быте русских венценосцев. В его записных книжках и дневниках можно найти знаки глубоких размышлений о судьбе Иоанна IV. Вот один из его тезисов: «…Каждый разумный историк встанет на сторону Грозного, ибо… он содержал в себе идею, великую идею государства…». В тетради «Заметки» за 1893-94 годы Забелин, оппонируя Карамзину, восклицает от имени Царя: «Чего ужасаетесь? Вспомните, историки-подзуды, каков был Новгород Великий, какую кровь он проливал от начала до конца своей жизни, погублял свою братию неистово, внезапно. Сколько побитых? Они все здесь. Переспросите их. Каково было их житие. Кто управлял событиями в татарское время и заводил кровь между князьями? Все это мне пришло в голову в 1570 г., и я наказал город по-новгородски же, как новгородцы наказывали друг друга… в давние лета.
Ничего нового я не сочинял. Все было по-старому. Только в одно время, в шесть недель повторено то, что происходило в шесть веков. А казнил за измену, за то, что хотели уйти из единства в рознь. Я ковал единение, чтобы все были как один человек«.
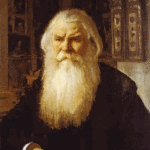 В другом месте Забелин указывает причину царской суровости: «Он выводил измену кровавыми делами. Да как же иначе было делать это дело? Надо было задушить Лютого Змия – нашу славянскую рознь, надо было истребить ее без всякой пощады… Понятно, почему так рассвирепел Иван Грозный, услыхав об измене Пимена, что хотел отдаться Литве«. Вот она истинная подоплека новгородских казней! Здешние вельможи вкупе с архиепископом Пименом решились на измену Московии с тем, чтобы присоединиться к Литве, исконному врагу России и Православия, да не одни, а со всею Новгородскою землею. Страшно подумать, что было бы с Отечеством нашим, если бы Грозный тогда же, так сказать, по горячим следам, не потопил сепаратистские тенденции Новгорода в крови ренегатов.
В другом месте Забелин указывает причину царской суровости: «Он выводил измену кровавыми делами. Да как же иначе было делать это дело? Надо было задушить Лютого Змия – нашу славянскую рознь, надо было истребить ее без всякой пощады… Понятно, почему так рассвирепел Иван Грозный, услыхав об измене Пимена, что хотел отдаться Литве«. Вот она истинная подоплека новгородских казней! Здешние вельможи вкупе с архиепископом Пименом решились на измену Московии с тем, чтобы присоединиться к Литве, исконному врагу России и Православия, да не одни, а со всею Новгородскою землею. Страшно подумать, что было бы с Отечеством нашим, если бы Грозный тогда же, так сказать, по горячим следам, не потопил сепаратистские тенденции Новгорода в крови ренегатов.
Возможно, теперь на границе Тверской губернии стояли бы натовские танки! За то, что Новгород Великий остался в составе России, мы все должны земно поклониться Царю Иоанну, который ковал наше единение.
 Крупный литературный критик, социолог и публицист второй половины XIX столетия Николай Константинович Михайловский (1842-1904), комментируя нелепости Карамзина и его последователей, замечает: «Наша литература об Иване Грозном представляет иногда удивительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте делают решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а… даже прямо вопреки им: умные, богатые знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными буквами по белому полю«.
Крупный литературный критик, социолог и публицист второй половины XIX столетия Николай Константинович Михайловский (1842-1904), комментируя нелепости Карамзина и его последователей, замечает: «Наша литература об Иване Грозном представляет иногда удивительные курьезы. Солидные историки, отличающиеся в других случаях чрезвычайной осмотрительностью, на этом пункте делают решительные выводы, не только не справляясь с фактами, им самим хорошо известными, а… даже прямо вопреки им: умные, богатые знанием и опытом люди вступают в открытое противоречие с самыми элементарными показаниями здравого смысла; люди, привыкшие обращаться с историческими документами, видят в памятниках то, чего там днем с огнем найти нельзя, и отрицают то, что явственно прописано черными буквами по белому полю«.
 Даже среди советских ученых являлись исследователи, которые подходили к рассмотрению фактической стороны данного вопроса объективно и безпристрастно. Один из них – академик Степан Борисович Веселовский (1876-1952) так охарактеризовал итоги изучения эпохи Грозного: «В послекарамзинской историографии начался разброд, претенциозная погоня за эффектными широкими обобщениями, недооценка или просто неуважение к фактической стороне исторических событий… Эти прихотливые узоры «нетовыми цветами по пустому полю» исторических фантазий дискредитируют историю как науку и низводят ее на степень безответственных беллетристических упражнений. В итоге историкам предстоит, прежде чем идти дальше, употребить много времени и сил только на то, чтобы убрать с поля исследования хлам домыслов и ошибок, и затем уже приняться за постройку нового здания«(выделено ред. сайта).
Даже среди советских ученых являлись исследователи, которые подходили к рассмотрению фактической стороны данного вопроса объективно и безпристрастно. Один из них – академик Степан Борисович Веселовский (1876-1952) так охарактеризовал итоги изучения эпохи Грозного: «В послекарамзинской историографии начался разброд, претенциозная погоня за эффектными широкими обобщениями, недооценка или просто неуважение к фактической стороне исторических событий… Эти прихотливые узоры «нетовыми цветами по пустому полю» исторических фантазий дискредитируют историю как науку и низводят ее на степень безответственных беллетристических упражнений. В итоге историкам предстоит, прежде чем идти дальше, употребить много времени и сил только на то, чтобы убрать с поля исследования хлам домыслов и ошибок, и затем уже приняться за постройку нового здания«(выделено ред. сайта).
Иной советский исследователь Даниил Натанович Альшиц, относящийся к когорте исторических материалистов, подвергал суровой критике источниковедческую базу карамзинской «Истории» и ее порождений: «Число источников объективных – актового и другого документального материала – долгое время было крайне скудным. В результате источники тенденциозные, порожденные ожесточенной политической борьбой второй половины XVI века, записки иностранцев – авторов политических памфлетов, изображавших Московское государство в самых мрачных красках, порой явно клеветнически, оказывали на историографию этой эпохи большое влияние… Историкам прошлых поколений приходилось довольствоваться весьма путаными и скудными сведениями. Это в значительной мере определяло возможность, а порой и создавало необходимость соединять разрозненные факты, сообщаемые источниками, в основном умозрительными связями, выстраивать отдельные факты в причинно-следственные ряды целиком гипотетического характера. В этих условиях и возникал подход к изучаемым проблемам, который можно кратко охарактеризовать как примат концепции над фактом«.
Апология христианского Государя, произносимая устами этого ортодоксального марксиста-ленинца, звучит вопиющим укором в адрес тех, кои, именуя себя православными христианами, тиражируют гнусные инсинуации об одном из величайших царей Земли Русской!
Вернемся, однако, к рассмотрению одного из славных деяний его, значение которого в нашей истории трудно переоценить. Включение Иоанном IV срединной Волги в границы нашего Отечества позволило нам в 1943 году отступать до Сталинграда, где мы дали гитлеровской Германии бой, имевший решающее значение. Именно эти волжские берега стали тем судьбоносным рубиконом, через который не смогла перешагнуть нацистская военная машина. Именно тут мы нанесли германскому милитаризму сокрушительный удар, переломивший ход войны и приведший нас к пасхальной победе 1945 года. Что сталось бы тогда с Россией, если бы ее пределы замыкались владимирскими и рязанскими землями, как это было в середине XVI столетия?
Мы, поборники светлой памяти коронованного отца Отечества нашего Иоанна IV Васильевича, не призываем Московскую Патриархию к его канонизации, которой он, по глубокому убеждению многих православных клириков и мирян, достоин. Такая просьба в сложившейся ситуации была бы нелепостью. Нам известно предупреждение Святейшего Патриарха Алексия II о том, что среди недоброжелателей русского Православия есть деструктивные силы, старающиеся разыграть карту Иоанна Грозного в целях нашего разъединения. Мы не из их числа. Мы не ищем раскола и не желаем церковной смуты. Мы хотим только восстановить историческую справедливость, реабилитировать память русского венценосца. Однако наша цель лежит не только в сфере научной деятельности. С нашей точки зрения настоящая проблема носит сакральный характер, ибо вопрос о Грозном – это вопрос о помазаннике Божием.
Нас глубоко безпокоит тот факт, что с высоких церковных трибун продолжают раздаваться голоса, дающие ему резко негативную оценку, клеймящие его память знаками тех злодеяний, коих он не совершал, и вешающие на него те постылые и позорные ярлыки, которые обретаются в карамзинской (с позволения сказать) историографии. В речах этих почему-то совершенно не учитывается обширное море позитивных откликов о личности и правлении Иоанна IV, а те церковные деятели, которые произносят такие речи, по какой-то причине игнорируют мнение выдающихся иерархов и пастырей православных, поставляющих Грозного на высокий пьедестал славы и почета. Мы не считаем авторов подобных высказываний ни еретиками, ни врагами. Речь скорее всего идет о некомпетентности. Испытывая к ним братскую любовь, мы считаем своим долгом поделиться с ними своими взглядами на данную проблематику. Выступая в средствах массовой информации с апологией Грозного и с миролюбивой критикой суждений карамзинских адептов, мы преследуем цель не только реабилитировать самодержца в глазах современников, но и поддержать высокий рейтинг образованности православных клириков и церковных ученых, ибо вышеозначенные речи, зачастую носящие псевдонаучный, антиисторический характер, дискредитируют представителей Церкви перед лицом внешней учености. Мы убеждены, что настало время серьезной и обстоятельной дискуссии на указанный предмет и посредством своих выступлений призываем оппонентов наших к подлинно научному и исторически объективному рассмотрению всех аргументов, относящихся к предполагаемому диалогу.
Видя действие в мире богоборческой тайны беззакония, машины зла, поставившего перед собою цель упразднить институт христианских государей, дабы покорить вселенную единому президенту, коего «Апокалипсис» именует антихристом, т.е. антипомазанником, мы уверенно и не без основания утверждаем, что со стороны носителей этого зла, подвергающих гнусной клевете и осмеянию всех достойных венценосцев христианского мира, Иоанн IV и Николай II, первый и последний (альфа и омега) из помазанников Земли Русской, претерпели особо жестокую и безчеловечную ложь. Им досталось более других, ибо они открывают и замыкают собою священную историю российского помазанничества: не говорю здесь о грядущем Царе, долженствующем прославить Отечество наше на закате человеческой цивилизации. Каких только гнусностей мы не слыхали о последнем нашем Императоре и его равноангельной семье! И где же все сие ныне? Рассеялось, как дым. Верим и чаем, что когда-нибудь зазвонят часы справедливости и на колокольне Ивана Великого.
Михаил ЕФИМОВ, кандидат богословия
(632)

Замечательная статья ! Спасибо.